




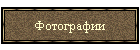

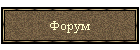

|
|
Агафонов
A.Ю.
Эссе о Петербурге
Города, как и люди не знают, что они
счастливы...
Ты жил один! Друзей ты не искал
И не искал единоверцев.
Ты острый нож безжалостно вонзал
В открытое для счастье сердце.
«Безумный друг! Ты мог бы счастлив быть!..»-
«Зачем? Средь бурного ненастья
Мы, все равно, не можем сохранить
Не умирающего счастья!»
А.Блок. 1914
Города, как и люди, грустят и веселятся, скорбят и
торжествуют, мужественно отстаивают собственное достоинство и стремятся войти в
историю, всячески демонстрируя свою неповторимость. Города, как и люди не знают,
что они счастливы единственно неоспоримым счастьем родиться. Ведь их могло бы и
не быть, ибо факт рождения – событие историческое, и потому, случайное.
Счастливый дар существования… Ровное дыхание времени… Но город ищет иного
счастья. В пульсации суматошной жизни, в пестром многообразии нарядов, амбиций,
кумиров легко усмотреть страстное желание города заявить о себе, доказать свою
неслучайность, подтвердить право на избранность, и уж непременно - удивить мир
громкими деяниями и отличительными знаками благополучия. Даже когда последнее
весьма сомнительно. Отсюда – карнавалы, уличные шествия, яркие краски, шум,
помпезность и фанфаронство. В основном фанфаронство. Не таков Петербург. За
многоликостью, сменой имен, и той суетой сует, которая свойственна всем большим
городам, скрывается робкая душа и томленье могучего духа. Долгие годы
изнурительного труда, а порой, беспримерной в истории стойкости, сделали
Петербург городом замкнутым и отрешенным: если он и допускает праздность и
пустую болтовню, то разве что для приличия, как и подобает городам такого
калибра. Петербург – это город-размышление, город интеллектуальных пауз,
недосказанности и сомнений. Утешение, равно как и источник чудного обаяния
Петербурга, – в уединении. Если бы одиночество могло бы выбирать себе лицо, оно
бы выбрало лицо Петербурга. Он будто знает что-то такое, что нельзя доверить
никому, поскольку только в исполненном гордостью самостоянии может совершаться
эта непосильная работа духа. В мощном потоке сознания города творится живая
материя смыслов, которые затем в бесконечном множестве форм можно обнаружить на
полотнах мастеров кисти, коими изобилует Петрополь, или найти, в согретых
любовным теплом строчках поэтов, или же, в порыве к незримым вершинам, испытать
их магическое действие, услышав льющуюся с неба музыку – гимн духовной мощи и
красоте северной столицы. А стоит ли говорить, какой величественный смысл
воплощен в неподражаемых шедеврах Росси и Воронихина, Клодта и Растрелли,
Захарова и Трезини! Преклонение гениев перед Петербургом, который давно
олицетворяет собой извечное и самое благородное стремление к идеалу, стало
вполне заурядным явлением. Вдохновение, которое Петербург пробуждает даже у
безнадежных прагматиков, становится своего рода непреодолимой зависимостью,
манией, наваждением, замещая собой пресловутые принципы удовольствия и
реальности. В Петербург трудно не влюбиться. (Нелюбовь к городу на Неве – это
случай клинический и довольно редкий в психопатологии.) А любящие, во что бы то
ни стало, хотят выразить своё поклонение. Да только наивно полагать, что город
проявит благодарность за вашу преданность и преумножение его и без того громкой
славы. Петербург одинаково не приемлет ни смердящей хулы, ни афишной хвалы.
Уважая себя, и в той мере подчеркивая это, в какой выразительность самоуважения
способна избавить от необходимости кому-то угождать и что-то доказывать,
Петербург нарочито невозмутимо относится ко всему, что вокруг него происходит.
Держать дистанцию, никому не доверять свои тайны, сохранять осторожность – вот
основные правила, которым он следует уже в течение долгих лет. Отстранённость и
подчеркнуто нейтральное отношение к современникам, безусловно, характерная
особенность Санкт-Петербурга. Но за этим нет черствости, снобизма, или цинизма.
По натуре это скептик, но никоим образом не высокомерный циник. Опыт пройденного
пути, отмеченного именами царственных особ, блистательных государственных
деятелей, гениальных служителей Музы, именами, снискавшими Северной Пальмире
повсеместную славу, сформировал в характере города недоверчивость, если не
сказать, подозрительность к настоящему моменту. Слишком высокие требования
предъявляет Петербург к современникам. Он никогда не торопится с признанием.
Долго присматривается, оценивает, проверяет на прочность, боясь ошибиться и
возвысить на пьедестал одну лишь глупую претенциозность, на поверку, не
заслуживающую никакого внимания. Чтобы расположить Петербург к себе, а тем более
вызвать его уважение, требуется задумать нечто поистине неслыханное, решиться на
невозможное. И здесь Петербург, бесспорно, отдает предпочтение идейным
авантюрам. Эту крайне выраженную черту, впрочем, далеко не единственную, детище
Петра, очевидно, унаследовало у своего родителя. Петербург исключительно
восприимчив к идеям fix. И даже не столь важно, что
это будет за идея. Главное – её внутренний накал. Поэтому убить
старушку-процентщицу просто так, без всякого на то умысла, по одной лишь злобной
прихоти – вроде бы как совсем и не по-петербургски будет. Другое дело - по
идейным соображениям, с тем, чтоб доказать, что «не тварь дрожащая», с
нравственным ароматом, душевной коллизией… Ну, а если, чьи-то головы фаршированы
мыслями о революционном переустройстве жизни, город охотно поддержит таковых в
их безумных начинаниях. Причина этого проста: Петербург маниакально боится
всякой посредственности, серости, середины. И не умеет в этом идти на
компромиссы. Он питает слабость ко всему диковинному, противоречащему канонам. В
городе, непохожем на другие, непростительно быть похожим на других. Нет лучшего
места для репетиции Страшного Суда, чем Санкт-Петербург. Город словно обращается
к каждому с вопросами: «А для чего ты был заброшен в этот мир? Чем ты
оплачиваешь своё право на жизнь?» После роковой встречи с Петербургом человек
уже не желает быть «спицей в колесе» и озадаченный до конца своих дней, ищет
потом всюду, где бы ему исполниться, где разрешить своеволие. Невские берега
притягивают к себе непризнанных гениев и спасителей человечества, пророков и
талантливых изобретателей, дерзких ученых и странствующих музыкантов. (Поскольку
в наши дни не странствующих почти не осталось, то музыкантов, в особенности.)
Тех, кто «метит в Наполеоны» в Петербурге не меньше, чем чаек над Невой. И если
есть у тебя хоть какая-нибудь сумашедшинка – ты обязательно найдешь одобрение у
Петербурга. Словом, быть вполне нормальным в Петербурге не совсем нормально.
Будучи сновидением Петра («…город – вымысел твой»
напишет Б. Пастернак), тенью времени, хотя и обладающей поразительной силой
реалистичности, Петербург многое способен простить, но только не «двойничество».
Обмануть Петербург – пустая затея. Он интуитивно чувствует, и тотчас разоблачает
любую фальшь. При виде дешевого притворства у него ухудшается настроение. По
закону: «все или ничего» – оплачивается право вести с городом разговор на
равных. А это требует предельного напряжения, подлинности чувств и решимости.
Поэтому в жизни - черновике Петербург не исправляет ошибок. Но если вы «у черты»
и обратились к нему как к доброму другу или мудрому наставнику – он непременно
выразит готовность помочь. С Петербургом нелепо делиться коммерческим успехом
или содержанием меню. К нему приходят на исповедь – с дрожью на устах, с
червоточиной в сердце. Неслучайно замученных «проклятыми вопросами» в Петербурге
больше, чем где бы то ни было. Петербург - экологически стерильный город для
страдающих душ и искателей точки опоры. Буквальность Петербурга в различении
человеческой трагедии поразительна. Он необычайно внимателен к каждому вашему
шагу, к каждому слову. Ваше страдание – это и его боль. Однако не стоит
надеяться услышать от него примитивные советы, вроде тех, которые так охотно
раздают врачеватели душевных ран. Он не скажет, что нужно делать, но вернет вам
веру в собственные силы и поселит в распахнутом сердце надежду, ту надежду, с
которой легче будет встречать завтрашний день. Петербургу хорошо понятно чужое
страдание, поскольку ему самому пришлось пройти через горнило немыслимых
испытаний. Спустя три столетия город по-прежнему помнит о том первоначальном
мученическом опыте, который позволил впоследствии сформировать всесильный
характер. Достаточно сказать, что только строительство Петропавловской крепости
унесло до ста тысяч безымянных жизней. На костях, в течение сорока лет
возводилось уникальное творение Монферрана - Исаакиевский собор, ставший еще
одним символом Петербурга.
Усиливая сильных и ослабляя слабых, город
провоцирует совершить метафизический выбор: идти до конца, в одиночку, без
гарантий победы, без единого алиби или смириться, проиграв свою жизнь. Даже
лучшим своим сынам Петербург не дает поблажек. Порой спустя только годы приходит
к нему понимание того, кого именно он подверг испытанию, кого не сберег. Но
время, как известно, лечит, делая, зачастую, сладким вкус боли. Вот только
черный день – 10 февраля 1837 года – навсегда останется кровоточащей раной. В
памяти городов тоже бывают пулевые ранения. В этот день жизнь Петербурга
раскололась на две части: до и после смерти Пушкина. Город поймет это позднее,
но уже навсегда. А черные воды Черной речки будут и нам всегда напоминать о том,
что есть события, после которых, что бы ты ни делал - уже поздно. Именно с
Пушкина начнется увлечение Петербурга изящной словесностью. Впоследствии поэты
всех мастей будут воспевать невскую землю. На поэтической лире зазвенят
серебряные струны. Но ненадолго. Через сто лет после дуэли Пушкина трагедия
повторится, только уже в космическом масштабе. Миллионы людей будут жить, эту
самую землю «под собою не чуя». Сотни тысяч безвинных душ будут в неё втоптаны.
Среди них – О.Мандельштам, заклинающий: «Петербург! Я еще не хочу умирать». Но
будет уже поздно. Машина смерти набирала обороты. Мог ли знать Пушкин, что
бессмысленным и беспощадным бывает не только русский бунт.
Изломанные судьбы, жизненные тупики, смерть от
бессилия, страха и голода – обо всем помнит Петербург. И скорее течение невских
вод повернется вспять, чем город забудет об этом.
Появившись на свет вопреки воли природы, с первых
дней «самый умышленный в мире город» (Ф. М. Достоевский) воспринимался
чудаковатым, непохожим на других. Самый европейский город на российской земле,
самый русский среди городов Старого Света. «Иностранцем своего отечества»
называл Петербург Гоголь. Следуя новоевропейским веяниям, аккуратно соблюдая
правила хорошего тона, Петербург, тем не менее, за фасадом благопристойности
всегда сохранял нечто темное, стихийное, иррациональное, что вроде как и не
имеет осязаемых форм, но что с пронзительной очевидностью понимаешь, оказавшись,
например, на реке Смоленке со стороны одноименного кладбища, где первоначально
был захоронен А.Блок или где-нибудь в извилистом лабиринте проходных
дворов-колодцев, ведущем тебя от Моховой к тому дому, где жил и откуда
отправился к «другим берегам» еще один верный сын Петербурга - Иосиф Бродский.
Воистину -
«Жизнь
есть товар на вынос…
И
географии примесь
к времени
есть судьба»
Сочетание холодной сдержанности, педантичной
выверенности во всем и романтизма, склонности к эстетическим шалостям создают
особое загадочное противоречие, которое пока не под силу разрешить ученым мужам,
промышляющим по части раскрытия тайн Петербурга. Это именно противоречие,
каким-то неведомым образом устраняемое в реальной жизни города, а не
шизофренический разлом. О соединении несоединимого, как в характере Петербурга,
так и в его внешнем облике, сказано много. Однако непреодолимое ощущение, что
городские улицы – это театральные подмостки, где искусство и есть настоящая
реальность, возникает не вследствие взаимоотрицания архитектурных решений и не в
противопоставлении суровой торжественности наружного облика блеклым, усталым,
молчаливо-покорным дворам Петербурга, а в сюжетах, созданных движением будничной
жизни. Непрерывно меняются декорации, действующие персонажи, зрители, выражение
их лиц… В театре без занавеса бесконечно длится один и тот же спектакль с
названием «Повседневность». В калейдоскопе питерской трагикомедии один за другим
мелькают эпизоды. Перед памятником Достоевскому, мать, очевидно за непослушание,
исступленно бьет своего малолетнего ребенка. Личико беспомощного малыша залито
слезами. Федор Михайлович наблюдает происходящее с мучительной болью и бессильем
в окаменелом взгляде. Конечно, невольно вспоминается про слезинку одного
страдающего ребенка… Из окна, проезжающего мимо автомобиля под ноги нищим, что
несут свой караул возле Спасо-Преображенского собора, бросили небрежно банкноту.
Слова благодарности, наверное, удивили бы благодетеля: «Не мусорьте! Уважайте
Петербург!» На Старо-невском, у входа в заведение, куда дамы отлучаются под
предлогом припудрить носик, стоит, собирая монеты с суетливых посетителей,
красивый, пожилой мужчина, бедно, но довольно опрятно одетый. Девушка на ходу
обращается к нему с вопросом: «Вы – кассир заведения?» В ответ размеренно и с
необычайным достоинством: «Я - граф Монте Кристо, а это – мой остров сокровищ».
Переплетение сюжетных линий, смешение жанров,
настоящее, перпендикулярное прошлому, – все это Петербург. Петербург, в котором,
одновременно, где блеск, там и уныние, где отчаяние, там и надежда, где
подполье, там и возрождение… Как бы город ни менялся, а это останется в нем. И
всегда будет узнаваемо: непреодолимое дежа вю в безумной кафкианской Одиссее.
«Вечное возвращение» Петербурга как нельзя тоньше чувствовал А. Блок. Разве не
об этом его строки, размноженные миллионами голосов:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века –
Все будет так. Исхода нет.
Согласье и борьба враждующих начал, видимо, и
являются источником того высокого напряжения, в поле которого если однажды
попадаешь, то уже навсегда остаешься пленником его притягательной силы. Это тоже
парадокс: при всех противоречиях Петербург обладает цельностью натуры и здравым
рассудком. (Спроси любого – и он скажет: «Петербург – это Петербург».) Вообще,
удивительно, почему Петербург до сих пор не сошел с ума…
В жизни Нового Амстердама случаются совершенно
удивительные дни. Каждый год в одно и то же время город погружается в состояние
задумчивости, наполненное доброй и светлой грустью. Белые ночи… Пора волшебства
и неожиданных превращений. Разведенные мосты, точно фантастические птицы,
расправив крылья, устремляются к серебреным высям. Взгляд, брошенный со Стрелки
Васильевского острова, медленно скользит по полотну прозрачной вуали,
покрывающей смиренную Неву, и замирает в точке, где начинается «…жесткий и
прямой Литейный, еще не опозоренный модерном» (А. Ахматова). Воздух наполнен
сладкой страстью. Время замедляет ход. Петербургу ничего не остается, как снять
свой строгий мундир, подчинившись легкомысленно-восторженным и сентиментальным
волнениям. В такие дни Петербург становится влюбленным юношей и с удовольствием
не понимает себя. Словно Нарцисс, всматриваясь в зеркальную гладь невских вод,
город любуется своей красотой и мечтает о несбыточном: о вечной любви, о
тожестве добра, о жизни без вранья и страха… Мечтает о счастье. О том самом
невозможном счастье, к которому города, как и люди, стремятся всю свою земную
жизнь. Ведь города, как и люди не знают, что они счастливы единственно
неоспоримым счастьем родиться.
|

